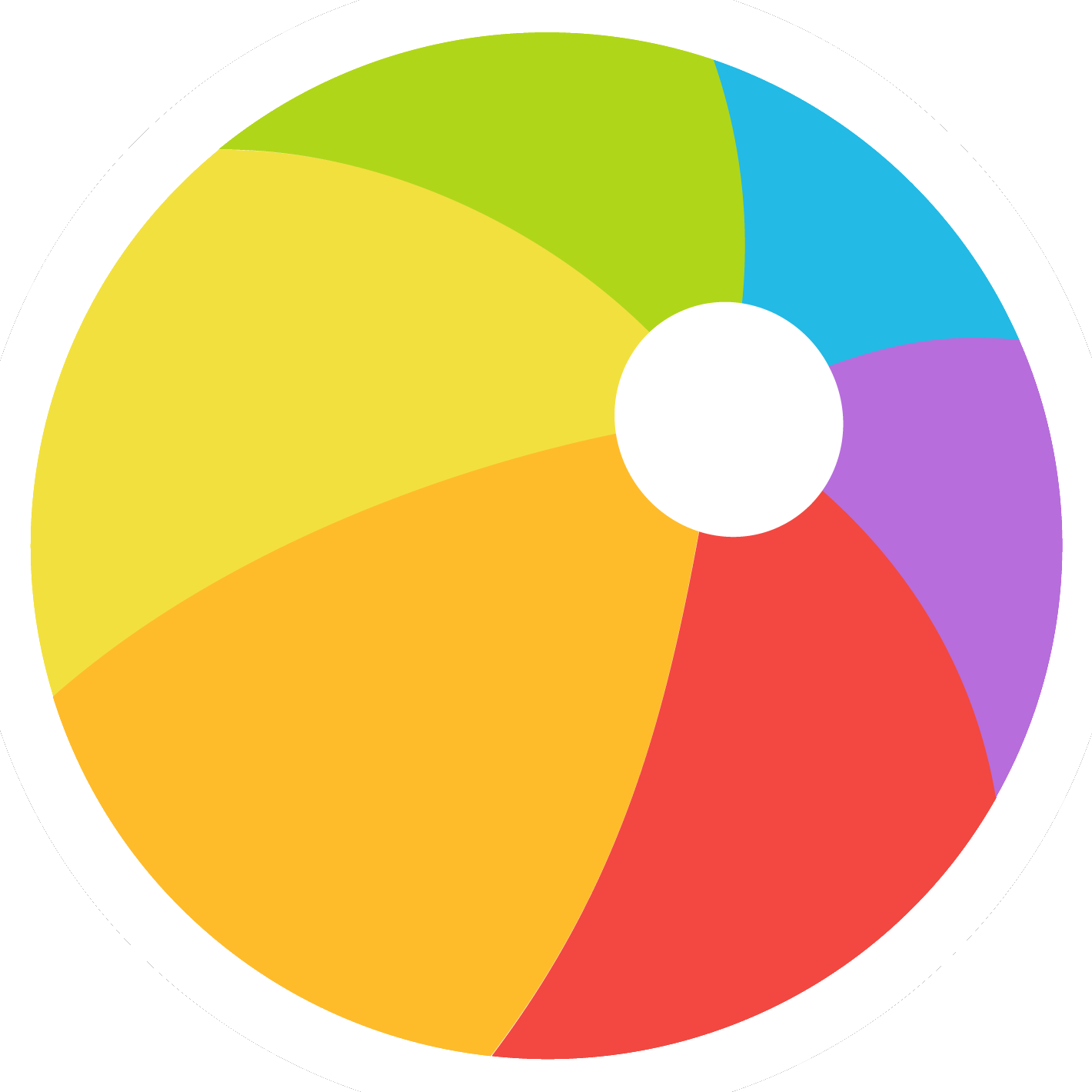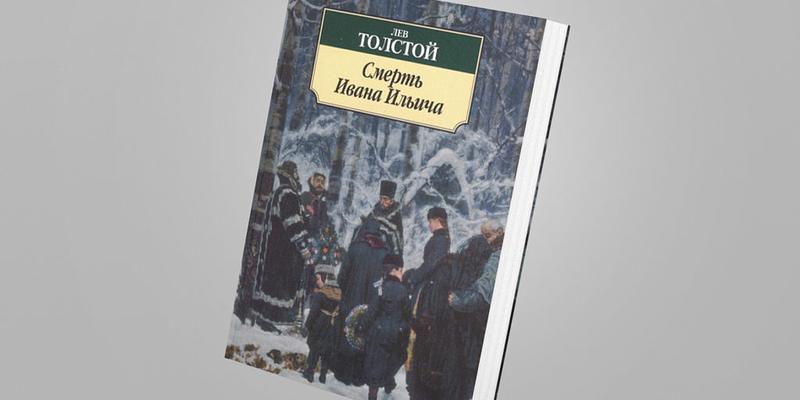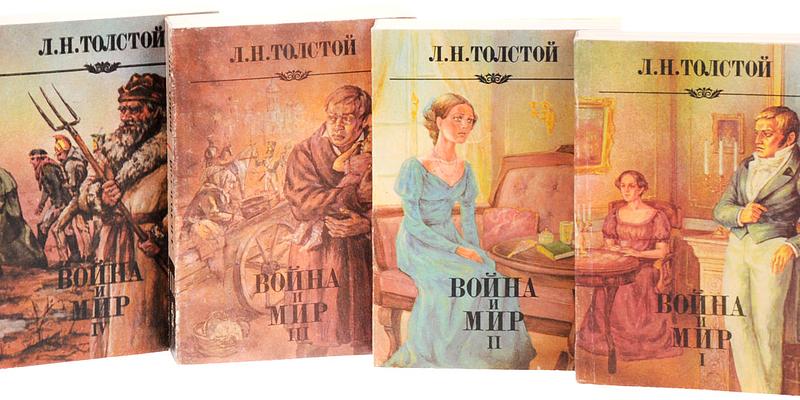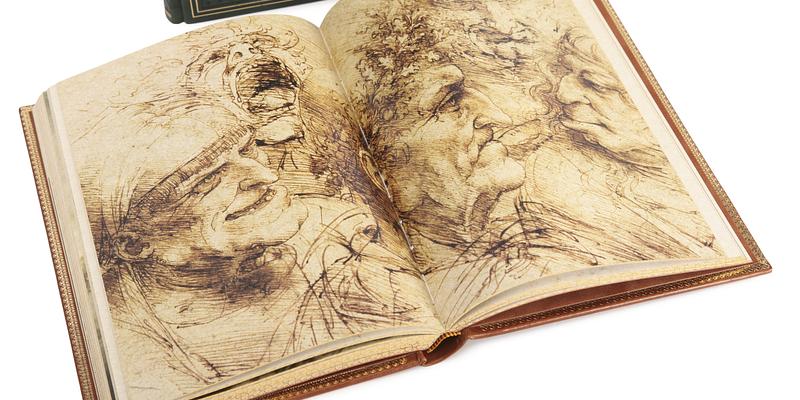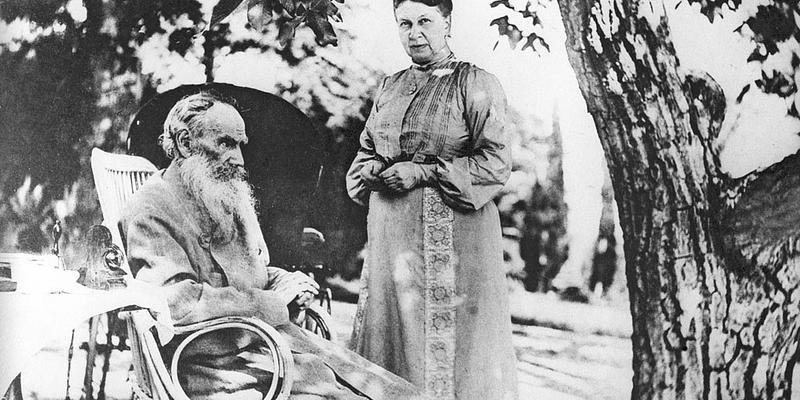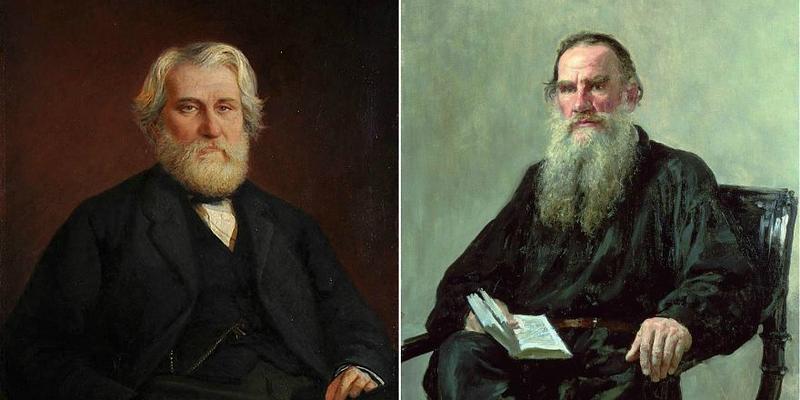Петр Андреевич Вяземский, не забывайте, в момент написания «Войны и мира» был глубоким стариком, он умер-то, насколько я помню, в 1878 году, сколько же ему было? 86 лет. Он родился прежде Пушкина и пережил его на сорок лет. Соответственно, князь Петр Андреевич Вяземский при всех своих бесспорных талантах в зрелости, в 1831 году был значительнее радикальнее Пушкина, и ему очень не понравились «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». А с годами он сделался охранителем, как это сплошь и рядом бывает. И хотя «Старая записная книжка» — это великолепное чтение, и поздние стихи Вяземского исключительные — «Жизнь наша в старости — изношенный халат…»,— нет, это все прелестно, но идеологические его воззрения отличались излишней и смешной ортодоксальностью, и, конечно, где ему было понять радикальную толстовскую концепцию истории. Она даже не столько толстовская, сколько шопенгауэровская, но это несколько на первый взгляд материалистический подход, когда в истории действует не гений, не герой, а равнодействующая миллионов воль. Событие происходит потому, что оно должно было произойти.
Не понял человек, это бывает, это совершенно не умаляет заслуг Вяземского, просто надо признать, что это бросает обратный рефлекс на его полемики с Пушкиным 30-х годов и более ранних. Это заставляет в нем признать талантливого поэта, но человека не особо глубокого ума. Пушкин деликатно полемизировал с друзьями, он их любил, и всю меру, всю силу своей гениальности он на них не обрушивал, как и на большинство современников. Цену Вяземскому он знал, поэтому он понимал, будь он либералом, собеседником Мицкевича или будь он отчаянным консерватором в старости,— это мировоззрение довольно плоское.
Вяземский был довольно хороший поэт, но человек довольно плоский. В нем нет этого иррационального чувства истории, он, я думаю, не понял толком «Годунова». Русскую хтонь историческую он тоже не чувствовал. Отсутствие иррациональности губит художника; если не губит, то, по крайней мере, не позволяет перерасти себя. В Пушкине эта иррациональность была, и она — весь «Годунов», он чувствовал эти колебания мнения народного, его внезапные затухания, его удивительное сочетание рабства и бунта, которое, кстати, так гениально отражено у Толстого в истории Богучаровского бунта, бунта на коленях.
Конечно, я думаю, что соотношение народных, из устных преданий, любимых Вяземским, и толстовских матриц, оказалось довольно сложным. Да, мы знаем «Бородино» таким, каким его описал Толстой. Да, из Бородинского сражения, которое со всей военной точки зрения выглядит все-таки поражением или, с большой натяжкой, ничьей, у Толстого выглядит победой, когда, действительно, на французов наложена рука сильнейшего духом противника. Это укоренилось в народном сознании, и мы знаем Бородино таким, каким его описал Толстой. А вот идея, что Москву не поджигали, что она сгорела сама, потому что деревянный, оставленный жителями город, должен был сгореть — это не укоренилось. Все равно считается, что Москву поджигали. Потому что народ делает легенду из того, что более мстит и льстит его мировоззрению.
Толстовская философия оказалась воспринята в той своей части, которая больше всего приятна национальному самосознанию. Выигрывает тот, кто больше поставил на карту, как побеждает в дуэли с Долоховым Пьер, потому что он радикальнее, потому что он отчаяннее, потому что он большим рискует. Тимохин говорит, мол, «всем народом навалиться хотят, чистые рубахи надели». Это, безусловно, все вошло в народный канон. А идея, что рекогносцировка не дает представления о поле боя, что ни одна диспозиция не может быть исполнена, всегда на войне происходит не то, что запланировано, а то, что случается,— это не укоренилось. Хотя, может быть, Толстой в этом-то прав. Потому что бой — это всегда хаос, а тем не менее генералы продолжают думать, что все происходит по их предварительным чертежам. Наивно очень думать до сих пор — а такие люди есть,— что война была выиграна благодаря военной гениальности Кутузова. Война была выиграна благодаря военной гениальности русского бога, благодаря национальному духу, во-первых, и благодаря чуткости Кутузова к воинском духу во-вторых. Что бы сейчас ни говорили о том, что Кутузов был бездарен и что он бездействовал. Может быть, бездействие его, по Толстому, и было высшей мудростью.
Но, как уже я говорил, народ и читатель усваивает только ту часть авторского мировоззрения, которая ему приятна, которая вписывается в государственные трактовки. А что князь Вяземский не понял толстовской исторической концепции, так, понимаете, она действительно для человека плоско мыслящего непозволительно материалистична. Она очень оригинальна, конечно, но дело в том, что Вяземский был современником этих событий и запомнил их иначе. А убеждать современников — это последнее дело. Потому что то, что история с некоторой временной дистанции выглядит иначе, такая эйнштейновская загадка, что зрение становится относительно, и зрение современника как раз искажает действительность, а видна действительность только на расстоянии,— это для большинства людей абсолютный шок. Уверяю вас, когда мы будем читать исторические произведения (а мы будем их читать) о позднем путинизме и о том, что последует потом, о 90-х годах или о 10-х, мы, современники, будем говорить: «Да вранье! Не так все было!». Но будущему гению видней, господу видней с высоты.