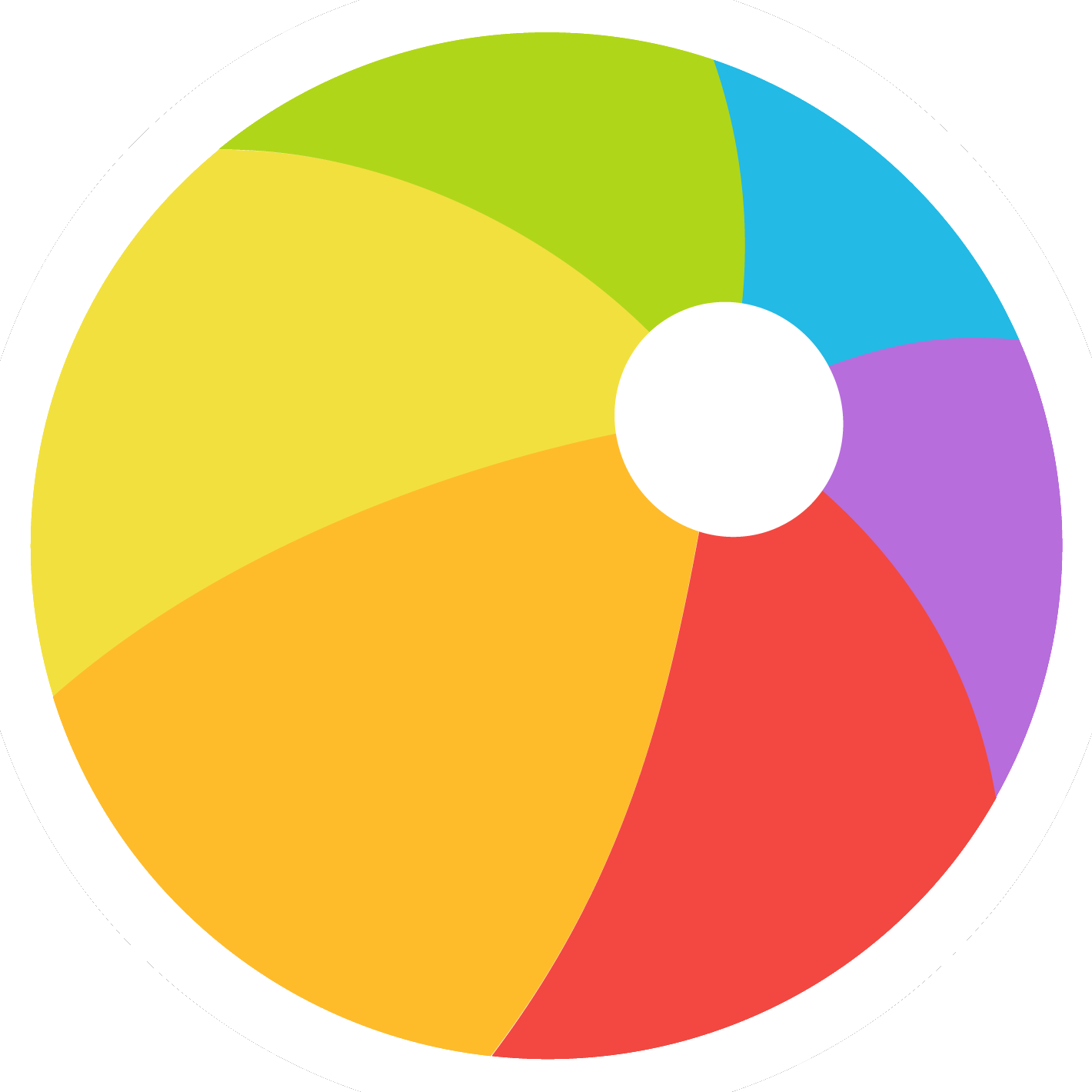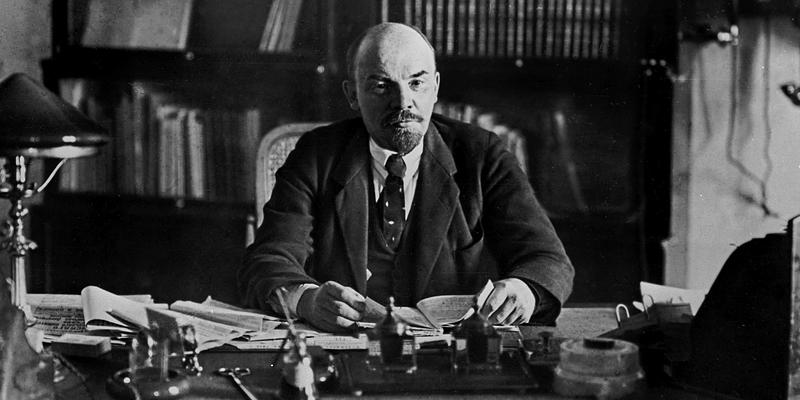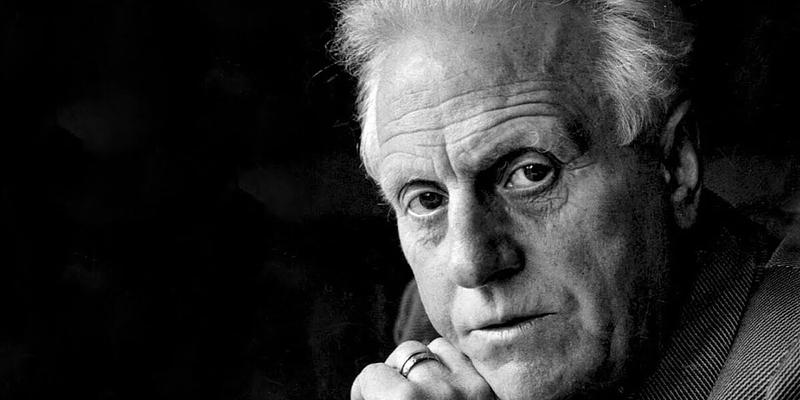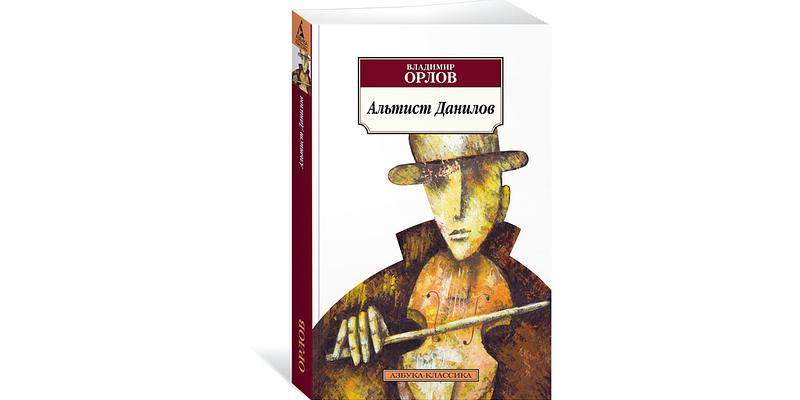Поговорим о скандинавской литературе, о феномене скандинавской литературы и о том, почему она так близка русскому сердцу. Модерн наиболее силен, наиболее значителен там, где сильнее всего традиция, архаика, сопротивление. «Пер Гюнт» ибсеновский мог появиться только там, где есть культ этого Доврского деда, который гордится тем, что у нас все собственного производства. «Пер Гюнт» появляется там, где господствует послушание и скука, «Уленшпигель» появляется там, где господствуют разные формы новой инквизиции. Роман де Костера, конечно, бунтарский прежде всего. Не только сам образ Уленшпигеля, но и само буйство формы там противостоит реализму с его скукой, социальным детерминизмом, объяснением причин всего. Это выдающаяся дерзость — написать в это время плутовской роман, барочный, может быть, даже такой ренессансный.
Вот мне кажется, что сила традиции — семейной, государственной традиции — в Скандинавии породила абсолютно бунтарскую литературу: Гамсуна, который все равно потом пришел к традиционализму, но начал-то он с бунта. Гамсун — это отдельный случай, случай довольно смешной женофобии, которая и русской литературе тоже в известном смысле присуща. Стриндберговская мизогиния совершенно ужасна, но она тоже продиктована именно модернизмом, именно нежеланием испытывать предписанные эмоции. Ну и Ибсен, конечно, который создал новый театр, но не только в той форме, в какой он описан у Шоу в статье «Квинтэсссенция ибсенизма»; не только перенос конфликта внутрь персонажа — нет, не только это. Прежде всего это совершенно новаторский подход Ибсена к фигуре сверхчеловека, к фигуре Бранда.
Мне представляется, что скандинавская проза сыграла главную роль в модернистской революции начала века. Она действительно утвердила нового человека, человека модерна, лишенного прежних эмоций. Именно озлобленного, конечно; раздраженного, как все герои стриндберговских драм или поздних драм Ибсена; человека усталого и явственно ощущаемого границы человеческого, желающего перейти за эти границы. К сожалению, в Европе случилось так, что традиция этой северной архаики была осмыслена в таком худшем нибелунговском духе, в вагнерианском духе. Потому что, понимаете, мифология севера имеет два извода, два подхода, которые мне представляются зерном такого отношения к скандинавской культуре. Ключевая проблема вот в чем: да, «Ориентация — Север» Гейдара Джемаля доносит до нас в самом первозданном виде вот эту проблему антитезы севера и юга: торговый, праздный, оптимистический юг и суровый, воинственный север, север волхвов. Есть тот север, который рисует на своих графоманских полотнах Константин Васильев — талантливый, бесспорно, художник, который в конце пришел просто к нордическому мифу и нордическому плакату, страшно примитивному. Притом, что он человек одаренный, но то, что он с ним сделал, показатель того, что делает ложная идея с любым талантом. Его «Человек с филином» (прощальная работа) — это уже просто какая-то масскульт, заведенный в куб, хуже Глазунова, на мой взгляд.
Вот эта нордическая традиция, все эти вагнерианские валькирии — это такой дешевый север. Но есть север другой, север скандинавский, который, в отличие от севера германского, исходит из представления о трагическом, о трагической участи человека в мире, об окруженности человека силами зла; о том, что жизнь — это крошечное светлое пятнышко среди бесконечного моря мрака. Это готическое мировоззрение, строгое готическое мировоззрение. Кстати, у того же Васильева есть картина «Лесная готика» — это тоже пример опошления великой мифологии севера каким-то отвратительным масскультовым, архаичным, милитаристским культом. Вот эта милитаризация — это как раз отличие масскультового севера.
Север Ибсена, Стриндберга и Гамсуна (и особенно Лагерквиста) — это север трагического, мироощущение должно быть трагическим, «рождение трагедии из духа музыки». Трагическое ощущение жизни, человеческой роли, человеческой судьбы, ощущение постоянного противостояния человеческой судьбы, человека и бога, человека и диких архаичных стихий (безумия, например),— вот оно присуще скандинавской культуре. Самая показательная вещь — наверное, маленькая повесть Лагерквиста «Палач», в меньше степени «Карлик» (о «Карлике» тоже поговорим). В «Палаче» время раздваивается: действие происходит в одном кабаке, но сначала в средневековом, а потом в современном. Пошлые людишки, которые рассказывают притчи о палачах, а потом о вождях, о фюрере,— это тоже все пошлость. Это очень хорошо понимается у Лагерквиста. А есть фигура палача, который воплощает собою зло, имманентно, изначально присущее человеческой природе, потому что без палача, без внутреннего палача человек не живет. Палач символизирует зло, растворенное в мире, зло необходимое. Это зло, исходящее от закона, от насилия, которое тоже неизбежно. Частные, жалкие уловки человеческие, будь то жулики или вожди — это ничтожно на фоне онтологического зла, изначально присущего, всемирного зла, которое воплощено в страшной фигуре палача. Он тяготится своим ремеслом, но без этого ремесла человек не существует.
Гораздо интереснее, на мой взгляд, фигура карлика, которая появляется в несколько большем по объему и более масштабном по замыслу романе «Карлик». Там речь идет о внутреннем карлике каждого человека, о маленьком и злом уродце, который живет внутри каждого и особенно внутри короля. И когда карлик оказывается в тюрьме, он говорит: «Ничего, меня выпустят. Они без меня ничего не могут». Это же и касается «Вараввы» — великолепной, на мой взгляд, повести. Из всего осмысления библейской традиции, библейских сюжетов в мировой прозе двадцатого века повесть Лагерквиста мне кажется самой интересной. Это связано с тем, что для Лагерквиста человек — это вообще Варавва; это тот, которого помиловали вместо Христа; это тот, кто избежал распятия. Он хочет повторить подвиг Христа, но сделать этого не может из-за изначальной Вараввской, рабской, греховной своей природы.
Вот это понимании греховности человека и его обреченности — оно скандинавской и северной культуре вообще очень присуще. Человек неполноценен, человек неправильно задуман. Кстати говоря, у Леонова в «Пирамиде» тоже есть эта нордическая традиция: там он, ссылаясь на книгу Еноха, повторяет, что в человеке нарушен баланс огня и глины. Трагедия человека в том, что его замысел, замысел о нем бога не совпадает с заложенными в него данными, не совпадает с возможностями. Он мог бы пойти за Христом, но он Варавва, и тот максимум бунта, который он может себе позволить,— это бунт разбойника. Условно говоря, он хочет быть Руматой, а может быть только Аратой, если возвращаться к германовскому фильму и к повести Стругацких.
Кстати говоря, интонация скандинавской прозы — будь то проза Стриндберга (в особенности «Слово безумца в свою защиту») или будь то проза Лагерквиста, или ранние романы Гамсуна, которые все-таки гораздо лучше «Плодов земли» — это интонация именно трагическая, обреченная. Ведь что такое гамсуновский «Голод»? Конечно, это потрясающе сильное описание голодной молодости, нищеты, одиночества, но это еще и голод человека по превращению во что-то другое. Это страшная, мучительная жажда, это страшная попытка насытить неукротимый темперамент, стать чем-то, кроме человека. Вот эти муки голода — их не следует прочитывать только в социальном контексте, который, кстати, обеспечил прозе Гамсуна ее советское бытование. Это голод по будущему, голод по превращению во что-то иное. И весь Варавва написан о том, как человек пытается стать чем-то иным и не может. Отсюда вечно трагическая тема скандинавской прозы, которая и предопределила мрачный, гибельный, неудовлетворенный дух вечно ищущего модерна.