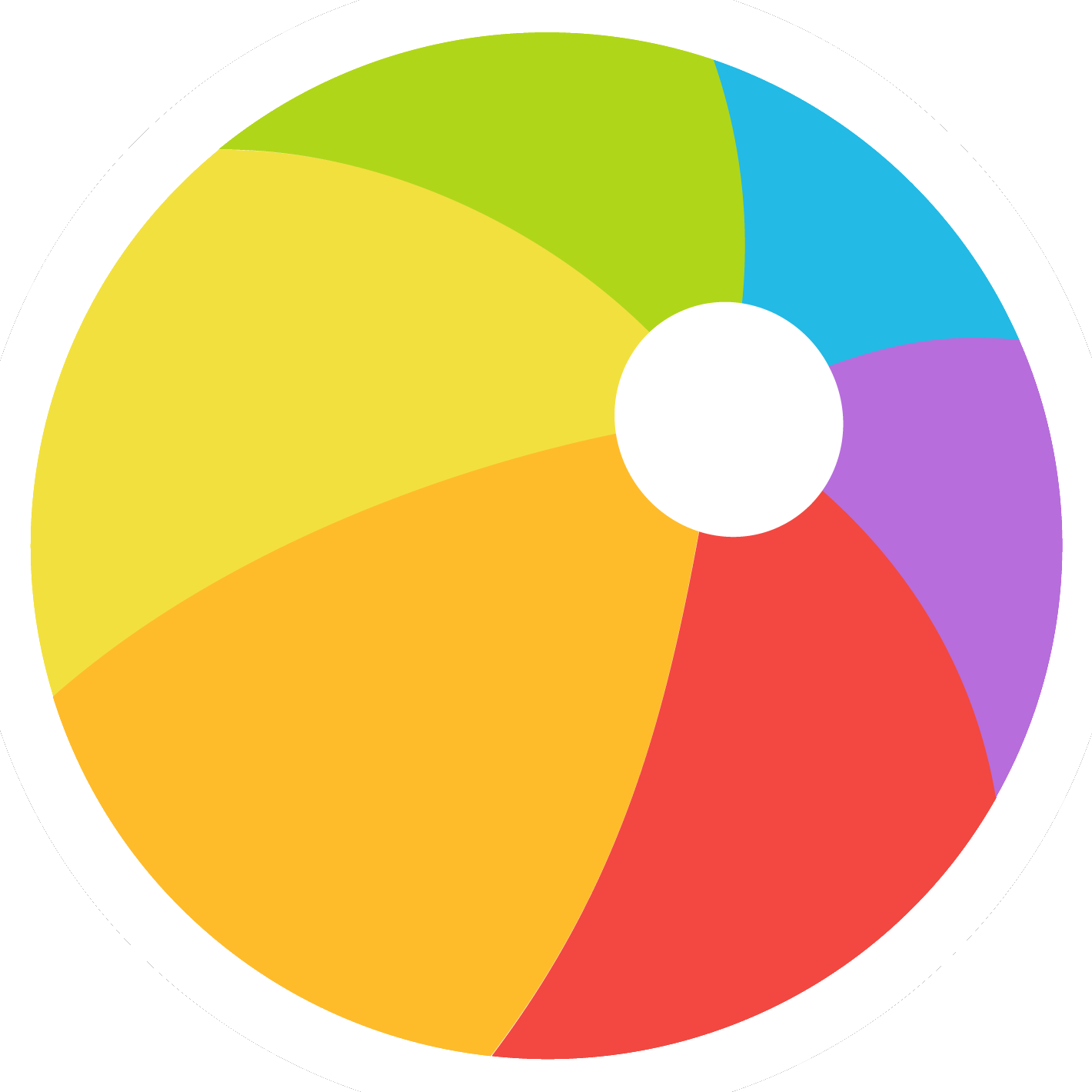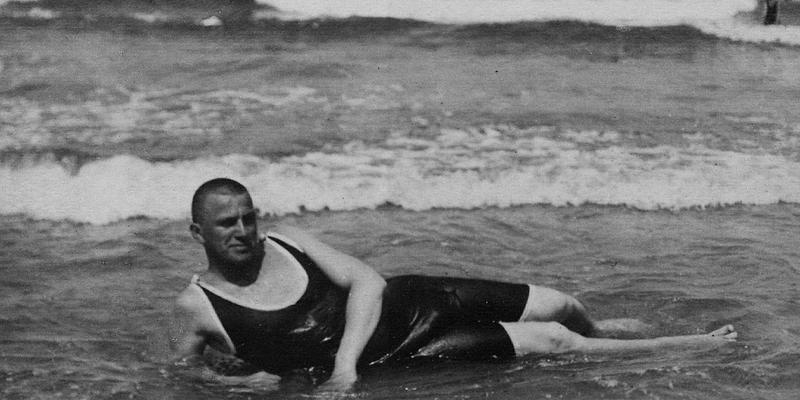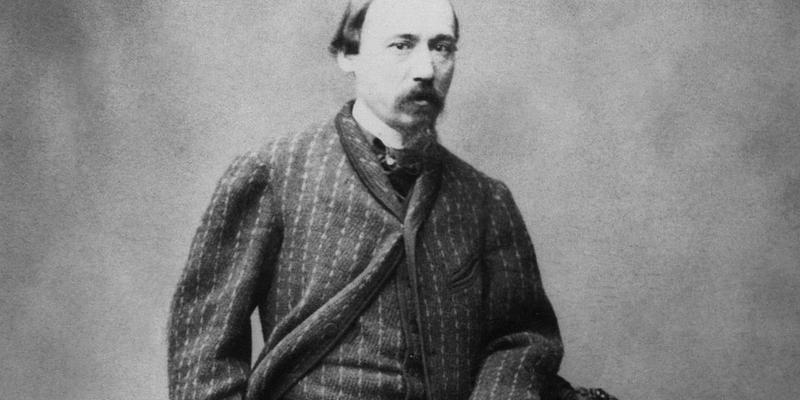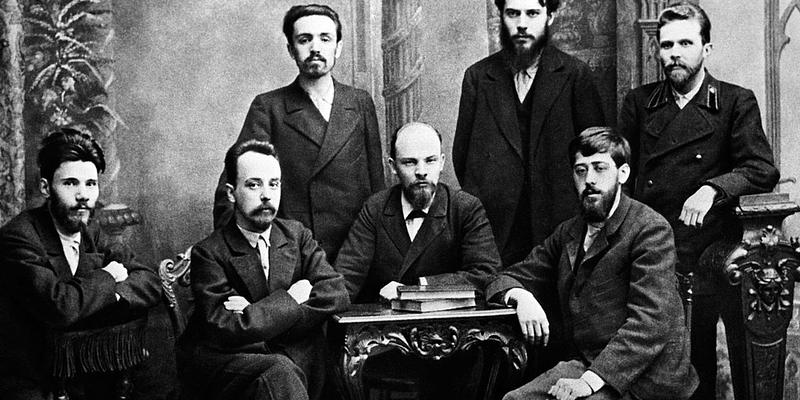Это тема для отдельной лекции, очень большая. Я не собираюсь расставлять здесь моральные акценты, да и кто я такой? Но причина, понятно, в одном, и этого нельзя сбрасывать со счетов: уродливое общество, уродливое общество, уродливые коллизии порождают уродливые отношения. Грех сказать, «Июнь» написан об этом. О том, как мальчик мучает девочку, а девочка — мальчика, потому что они живут в больной стране, готовящейся к войне.
Лев Гумилев прожил страшно уродливую жизнь. Он считал, что он страдает за мать, за отца и за мать. Это было в известном смысле так. Он считает, что она предпринимает недостаточно усилий для его освобождения, а она говорит: «Ради его спасения я пожертвовала именем. Я написала, чтобы его спасти, цикл «Слава миру». Она же действительно это делала не для своего спасения. Она же в 1949 году, когда её травили, в 1946-м, 1947-м,— она же этого не написала. Она это написала в 1951-м, когда встал вопрос о его спасении, когда была возможность этой публикацией его вытащить.
Она же в 1946 году не свидетельствовала в своей лояльности. Зощенко напечатал — Симонов рискнул — «Партизанские рассказы»,— Зощенко пытался вернуться в публичное поле, Ахматова молчала. Она прекрасно понимала, что вся кампания против нее, против Зощенко, против ленинградской литературы в целом,— она вся была ответом на фултонскую речь. Это совершенно очевидно. Для меня, как собственно, наш историк и говорил, это наш маленький Фултон. И поэтому для меня совершенно очевидно, что Ахматова попыталась спасти Льва Николаевича, но её возможности были ограничены. Он всю жизнь считал, что она делает недостаточно. Она гордилась им. Когда он, вернувшись с фронта, в паузу между отсидками привез ей китайский халат, она с гордостью носила этот халат с драконом, и всем знакомым говорила: «Лева привез, сын привез».
Между ними искусственно вбивали клинья, и потом она всю жизнь гордилась сыном. Она надеялась с ним примириться, но какие-то люди этому помешали, им этого не хотелось. Да и потом, Лев Николаевич был человек, скажем так, непростой. Во всяком случае, его заявление «Я не интеллигент, у меня профессия есть», оно довольно самоубийственно. У него-то как раз, мне кажется, важнее не профессия, а его метафизические концепции, которые, как мы знаем, очень часто фактологического подтверждения не находят. И запомнился он нам не тем, что он историк, а тем, что он создатель теории пассионарности, к которой я лично отношусь с большим скепсисом. Потому что за пассинонарностью выдают обычную дикость. Он такой шпенглерианец, «культура против цивилизации». И я вообще не очень люблю Льва Николаевича и тех, кто любит Льва Николаевича. Его концепция евразийская, безусловно.
Я как-то Губермана спросил: «Можно ли говорить об антисемитизме Льва Николаевича?» Он сказал: «Я не эксперт по антисемитизму, но думаю, что его химерические народы; малый народ, который разлагает и губит большой,— видимо, это какое-то отражение…» Но у Шафаревича то же самое высказано в «Откровении». Я поэтому не большой поклонник Льва Николаевича, и лично, и по текстам, но нельзя не признать, что его проза очень талантлива, и сам он обаятелен, и стихи его блистательны, и жизнь его исковеркана. Анна Андреевна делала для сына в последние годы уж точно все, что могла. О ранних годах можно спорить. Действительно, она занималась устройством собственной жизни, Лева жил в Бежецке. Какие-то претензии он к ней предъявить может.
Но, знаете, Цветаева сказала: «Сказать о себе «я — дурная мать» — это значит уже быть великим поэтом, великой душой». Наверное, Анна Андреевна судила себе жестче, чем многие вообще, как мне кажется. Во всяком случае, в литературе она вела всегда себя очень морально.