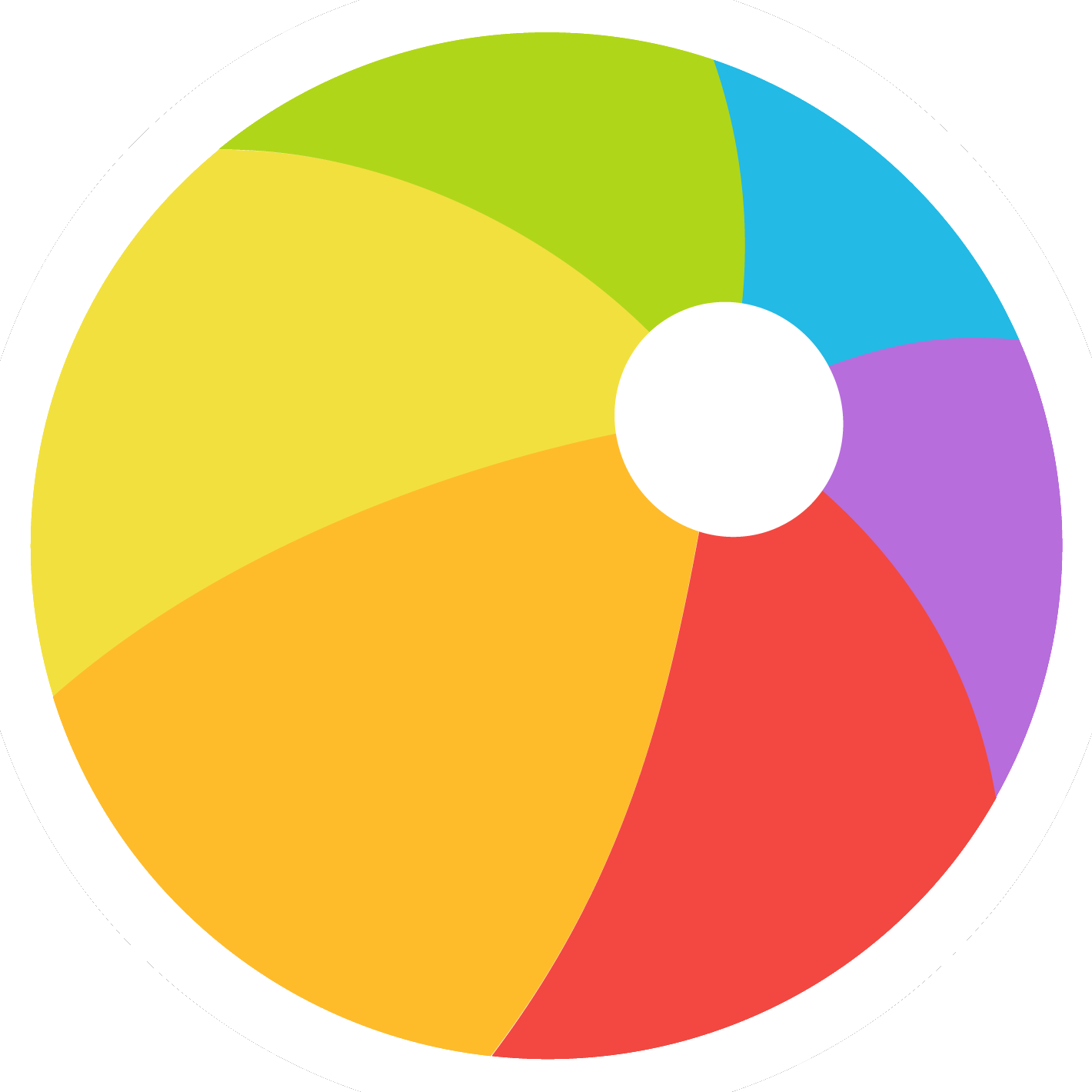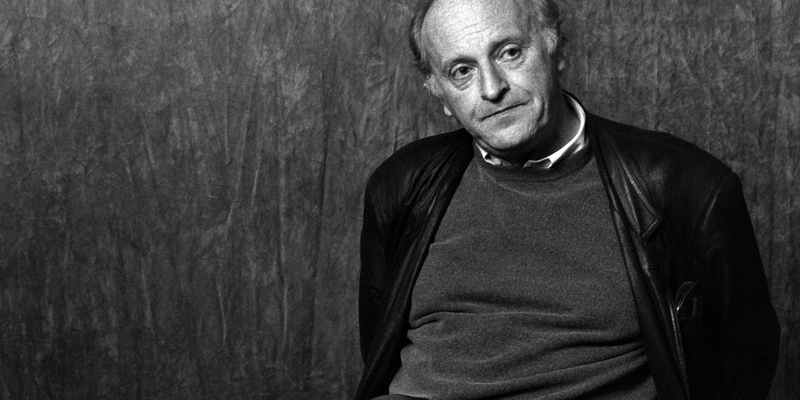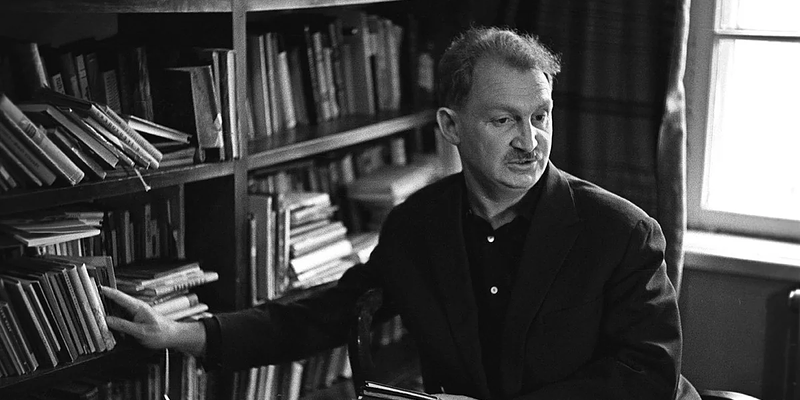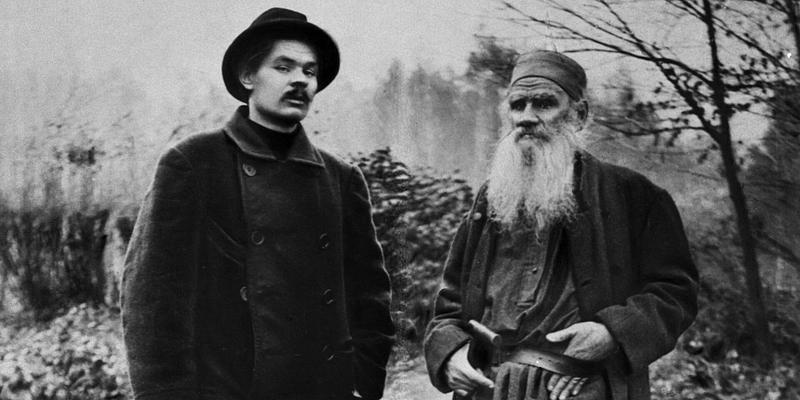Поговорим же о советском образовании и об ИФЛИ, об этом странном и замечательном месте, где ковалась (не побоюсь этого слова) советская интеллектуальная элита.
Институт филологии, литературы и истории создан был в 1931 году и прекратил своё существование в 1941-м, десять лет спустя. Он вышел из МГУ и вернулся в МГУ. Но мне трудно сейчас сказать — тем более там сменилось больше восьми лет [лекторов? директоров?], по-моему, десять даже,— мне трудно сейчас сказать, какую цель преследовали люди, создавая ИФЛИ. Но, вообще говоря, в начале больших перемен революционных всегда бытует мечта о создании нового вуза, который бы готовил новую элиту для страны. Вот такой был Лицей Александра, который возглавлял Малиновский, один из идеологов реформ, а Куницын преподавал право. Такой же была, конечно, педагогика двадцатых.
И надо сказать, что ИФЛИ был в этом смысле не одинок. Была МОПШКа Моисея Пистрака, Крупская много ею занималась — Московская образцово-показательная (или опытно-показательная) школа-коммуна. Была ШКИДа, (Школа имени Достоевского) великого Сороки-Росинского. Были педологи. И можно по-разному относиться к их разработкам, но всё-таки это некоторый шаг вперёд.
И вот был ИФЛИ, который должен был растить советскую элиту, прежде всего гуманитарную. И эту элиту вырастил, потому что и Ракитов, и Ильенков, и, кстати говоря, Черняев, ближайший помощник Горбачёва,— они все вышли оттуда. И у меня есть ощущение стойкое, что у нас уже русская педагогическая утопия есть, нам не надо её выдумывать и формировать. Просто надо соблюдать пять основных условий, которые применительно к ифлийцам и были впервые, на мой взгляд, введены.
Что сказать об ифлийцах, кстати, чтобы ещё вас немного поинтриговать насчёт этих пяти условий? Ифлийцы образовали на самом деле несколько кружков, а не один. Наиболее известен, конечно, тот, о котором Давид Самойлов (Дезик Кауфман тогдашний) написал:
Жили пятеро поэтов
В предвоенную весну,
Неизвестных, незапетых,
Сочинявших про войну…
Круг, кстати, к этим пяти тоже не сводился. И Ржевская в него входила, и многие входили, и Кульчицкий тоже. Но так в общих чертах это были Коган, Самойлов, Слуцкий, Наровчатов и Львовский, в основном вот они. Ну, Кульчицкий вообще держался на особицу (ещё один харьковчанин, друг Горелика и Слуцкого), он вообще не очень был расположен вступать в кружки. Николай Отрада и Арон Копштейн, которые при жизни друг друга терпеть не могли, а Отрада погиб на Финской войне, пытаясь вытащить из-под обстрела Копштейна, уже труп Копштейна, чего он не знал.
Естественно, что огромное большинство ифлийцев выкосила война. Насколько я знаю, помимо Елены Ржевской, которая ушла только что, до наших дней дожила Ирина Антонова, бывший директор Пушкинского музея. И совсем недавно я вот в связи с романом ездил расспрашивать Лидию [Людмилу] Чёрную, замечательную переводчицу, тоже ифлийку. Дай бог ей здоровья, ей 100 лет. Это лишний раз доказывает, что если уж человек мог пережить XX век, то он мог жить после этого практически вечно, потому что такое какое-то облучение истории пережили все эти люди.
Так вот, те пять условий, которые помогают сформировать гения. Ведь русская педагогическая утопия всё-таки действительно уже нам дана, и её изобретать совершенно не нужно. Вот что бы я сказал.
В первую очередь это должно быть государственным учреждением, близким к власти, государственно-востребованным — не потому, что снобизм, а потому, что возникает чувство элитарности определённой (а это чувство очень благотворно для обучения), и помимо этого возникает действительно чувство, что ты решаешь задачи государственной важности. Близость к государству (государство как бренд русский, это же известно) — это спасает от превращения в секту. Очень многие школы учителей-новаторов превратились в секты, а образование всё-таки, если продолжить аналогию, должно быть церковью — оно должно быть чем-то масштабным и вынесенным на свет, официальным и, конечно, государственно-востребованным. Потому что, если люди не будут чувствовать своей нужности, если они не будут решать великие и масштабные задачи, поставленные этим государством, я боюсь, что с мотивировкой, вернее, с мотивацией у них будет плохо.
Вторая такая черта — это гуманитарный уклон. Хотя надо сказать, что российское образование знает замечательные школы, такие как физматшкола (ФМШ) в Новосибирске или интернат Колмогорова. Но обратите внимание: в интернате Колмогорова, например, работал Ким, который с детьми всё время выдумывал какие-то спектакли, песни; Якобсон там появлялся, который тоже был гуманитарием.
В общем, я могу сказать, зачем это нужно, почему нужна эта гуманитарная составляющая. Не только потому, что Россия очень словоцентрична, более словоцентрична, чем любая другая страна, и её словоцентризм имеет такую компенсаторную природу: «Вот у нас всё не очень хорошо, зато у нас вот есть слово». Дело в том ещё, что без гуманитарного подхода — без вот этого несколько патетического, такого лицейского отношения, отношения к науке как к служению — без этого гуманитарного пафоса ничего не получится даже у физиков. Нужно как-то действительно чувствовать всё время за собой одическую традицию, вот эту мощную поэтическую традицию. И, кстати говоря, обратите внимание, что в этих школах всегда очень хорошо поставлены самодеятельность, журналы, сочинительство.
В-третьих, это должен быть абсолютно закрытый и во всяком случае интернатного типа такой лицей. Потому что как Пушкин писал записки «О народном образовании», за которые ему, как мы помним, вымыли голову… В доме ребёнок наблюдает сцены рабства: тогда — рабства крепостного, теперь — рабства семейного. В общем, много аморализма. А для того, чтобы формировалась вот эта элита, она должна очень плотно общаться между собой. И лучше бы быть слегка невротизированным.
Я знаю, как будут на меня обязательно наезжать за эти слова, что я настаиваю на невротизации детей. Ну, не только, что ли, невротизация… Как бы это так объяснить помягче? Ну, это должна быть действительно экстраординарная обстановка, не домашняя, потому что… Ну, пусть они приходят ночевать. Ну, пусть они всё время проводят в школе. Это связано прежде всего с тем, что без вот этой экстраординарности, без этой исключительности нет по-настоящему серьёзного отношения к школе.
Дети должны в школе проводить очень много времени. Это должен быть действительно второй дом, а может быть, в каком-то смысле и первый. Вот лицеисты, когда они узнали, что они даже на каникулы не будут ездить домой — столько было слёз, отчаяния, чуть ли не суицидных попыток! Но потом как-то благополучно они поняли, что они живут в «телемской обители», и не надо оттуда рваться. То есть влияние дома должно быть минимизировано. Вот это третий пункт.
Четвёртый, совершенно для меня необходимый: это должна быть школа авторская, потому что только присутствие яркого педагога, который создаёт имидж школы, в будущем создаёт и характер выпускника. И Ржевская, и Коган, и в огромной степени Самойлов были воспитаны присутствием Дживелегова, скажем, такого выдающего античника. Да и вообще надо сказать, что ИФЛИ — это был такой заповедник гениев. Но там очень много было людей, которые уцелели именно благодаря помещению в эту странную замкнутую среду, людей, которые в принципе в тридцатые годы были обречены, но им многое удалось.
Не будем забывать, что и Твардовский ведь был ифлийцем, кстати говоря. И может быть, его спасло именно то, что он был вот в этой нише, как-то он там сумел свободно реализоваться, иначе, мне кажется, талант его масштаба и человек его взглядов был бы просто раздавлен. Конечно, знаменитая эта легенда о том, что Твардовскому на экзаменах досталась его же «Страна Муравия» — это не имеет под собой почвы, это слух. Но то, что Твардовский в атмосфере ИФЛИ по-настоящему ощутил себя поэтом, почувствовал свою значимость — это безусловно. И это, мне кажется, тоже принципиальная установка.
И пятая вещь, которая кажется мне тоже особенно принципиальной сегодня: это должно быть образование качественно более высокое, чем требует норма, это должно быть углублённое изучение всего с максимально серьёзными требованиями. Ну, вот как было в той же ФМШ или как было у Колмогорова, где дети решали задачи исключительной сложности.
Я настаиваю на том, что ребёнка надо обязательно перегружать. Сегодня сегодняшний российский школьник не просто недозагружен, он не просто по большому счету бездельничает, а он занят ничем — и это самое обидное. Он занят лишним. И вот я регулярно в том же фейсбучке (который я всё-таки просматриваю, увы) встречаю… Ну, простите, слаб человек. Я встречаю требования разгрузить детей. Во имя чего? Что они будут делать, когда будут разгружены? На вас любоваться? А особенно меня убивает, конечно, вот это: «А зачем ему орфоэпия? А зачем ему высшая математика?» «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит»,— говорит Ломоносов.
Я смотрю, кстати, здесь, в Штатах, какое количество кружков, увлечений, спорта, каких-то безумных совершенно практик! Чем загружен ребёнок, сколько на нём всего! Больше того, сколькими вещами удивительными загружен пенсионер: тут вам и танцы, тут вам и бассейн, тут и изучение (вы знаете, что пенсионеры в Штатах обучаются бесплатно), тут вам и лекции, тут вам и какое-то постоянное изучение новых языков или путешествия. А у кого нет денег путешествовать — те ездят фильмы смотреть. То есть человек ни секунды не свободен. Это тоже всё время поиск максимального совершенствования.
И вот у меня есть ощущение, что если давать такое мегасерьёзное, страшно напряжённое образование, мы этим поднимем и очень серьёзно самоуважение детей. Вот посмотрите ИФЛИ, откуда Ржевская как раз взяла и свой блистательный английский… то есть немецкий, и прекрасное знание истории, и поразительную свою адаптивность, ведь она была знаменитым военным переводчиком. И дело не только в знании немецкого, а дело ещё и действительно в готовности переносить любые лишения. Удивительная физическая мощь, крепкость и та же самая мотивированность. Что сделало Ржевскую? Да то, что в ИФЛИ у людей действительно не было минуты свободной. Если вы хотели там учиться, вы должны были всё время соответствовать непрерывно повышающимся требованиям.
И я сам в своей практике (грех, наверное, о ней говорить, но тем не менее), всякий раз когда мне в школе попадается трудный класс или когда в институте, как сейчас я вижу, у меня трудные студенты, единственное, что можно сделать — это завалить его сложнейшими заданиями и на этом поднять его самоуважение. Чем это объясняется? Азарт. Вот у школьника — а особенно у школьника среднего, лет двенадцати-тринадцати — ещё есть колоссальный запас этого азарта, страстное желание думать о себе хорошо. А чтобы думать о себе хорошо, надо делать великое.
Вот почитайте дневники, например, ифлийца Давида Самойлова. Он вспоминает, какие невероятно серьёзные и ответственные разговоры велись в ИФЛИ, как эти люди говорили о марксизме, как они представляли себе будущее, как они без малейших скидок обсуждали стихи друг друга. Причём это отличалось от Литинститута, где с каким-то остервенением, с остервенелым наслаждением друг друга топчут. Нет, это было на самом деле тоже такой формой самоутверждения — спрашивать с себя много, относиться к себе серьёзно.
И я полагаю, что если нам сейчас начать формировать такие вузы… Кстати говоря, в момент перестройки таким вузом был РГГУ (при всех претензиях к нему). Если нам сейчас сформировать хотя бы один вуз, где будет учиться ни чиновная и не партийная элита, а реальные победители олимпиад, где детям будут давать серьёзные задания, имеющие прямое отношение к нынешней реальности… Ну, например, вот представьте себе: сделать, так сказать, информационное обеспечение программе сноса пятиэтажек. Взрослые дяди ничего не могут придумать, а дети придумали бы вам тысячу занятных мероприятий, позволяющих и сплотить жильцов, и всем объяснить происходящее, и найти какие-то новые аргументы.
Это задача для молодой элиты. Но эту элиту не надо бояться отыскивать. Ведь у нас, как вы понимаете, боятся двух вещей. Во-первых, боятся (и довольно основательно), что такая школа будет превращаться в секту. С другой стороны, боятся (и это уж совсем неосновательно), что эти умные, когда они вырастут, первым делом начнут валить власть. Не думаю.
Понимаете, я не зря первым пунктом упомянул власть как бренд. Конечно, когда власть занимается растлением нового поколения, когда она формирует бойцов, типа «Наших» или типа «Молгвардии» («Румол» это называлось и так далее), когда власть поощряет пляску на плакатах с портретами оппозиции, то тогда это гнусно. Но вообще чувство причастности власти к мейнстриму — это чувство вредным не бывает. Подлость настоящая — это когда ты чувствуешь, что ты льстишь начальству. Как говорил Пушкин: «Вот только что видел великого князя, и до сих пор всё моё существо как бы исполнено подлости».
Но одно дело, когда ты подлизываешь начальству, а другое — когда у тебя есть ощущение, что ты служишь государству. Вот чувствовать себя востребованной частью огромной страны — это идеологически очень полезно. Я не знаю, возможно ли сейчас это сделать или уже всё государственное скомпрометировано до конца. Но я хорошо знаю, что вот те подростки, которых я помню по своему детству, которые участвовали в политклубах и политбоях, которые состояли в Детской редакции радиовещания или в «Двенадцатом этаже», которые действительно пробовали себя в серьёзном и взрослом, будь то экспериментальный завод «Чайка» или театр Спесивцева, или передача «Ровесники»,— это были люди потенциально готовые мир перевернуть. Но так случилось просто, что… Да, кстати, я не упомянул «Алый парус», который тоже был замечательной кузницей кадров благодаря Щекочихину, Хлебникову, да многим, Минаеву, конечно, Борису. Вот это были модели настоящего образования.
Если у ребёнка не будет ощущения живого дела, с которым он постоянно связан, как это ощущение было у ифлийцев, я думаю, что ничего не получится. Естественно, вопрос: а почему это должны быть такие замкнутые, такие капсулированные структуры? На это я могу ответить: эмпирически просто понятно, что в России всегда именно такие структуры были наиболее эффективными. Почему это так? Я не знаю. Может быть, потому, что общество в целом рыхло, и оно недостаточно пронизано горизонтальными связами, а вертикальные тоже, в общем, относительные. И поэтому нужно создавать вот эти замкнутые маленькие структуры, в которых всё время господствует интеллектуальное напряжение.
Вообще в России идея салона, кружка всегда была особенно живуча. Но, ничего не поделаешь, если мы хотим моделировать новое образование, то это должны быть маленькие замкнутые элитные школы. Вот здесь как раз «в войне и в любви все средства хороши», потому что для того, чтобы вырастить новое поколение интеллектуальной элиты российской… А без него ничего не получится! Для того чтобы его вырастить, можно иногда рисковать. Вы мне скажете, конечно, что велик шанс, что из этих детей ничего не получится, а психика их будет изувечена. Но, знаете, всегда в таких случаях я вспоминаю слова Вадима Сергеевича Шефнера: «Тот, кто не долез до вершины горы, всё-таки поднялся выше, чем тот, кто взобрался на кочку».
Естественный вопрос: готов ли я заниматься вот таким образом? Вот только им я и готов заниматься. Но другое дело, что я не знаю, насколько это возможно сегодня, насколько это сегодня кому-то нужно. Может быть, это программа будущего. Но тот, кто захочет построить в России будущее, обязан начинать его с лицея. Так гласят все наши исторические уроки и такова наша историческая программа.