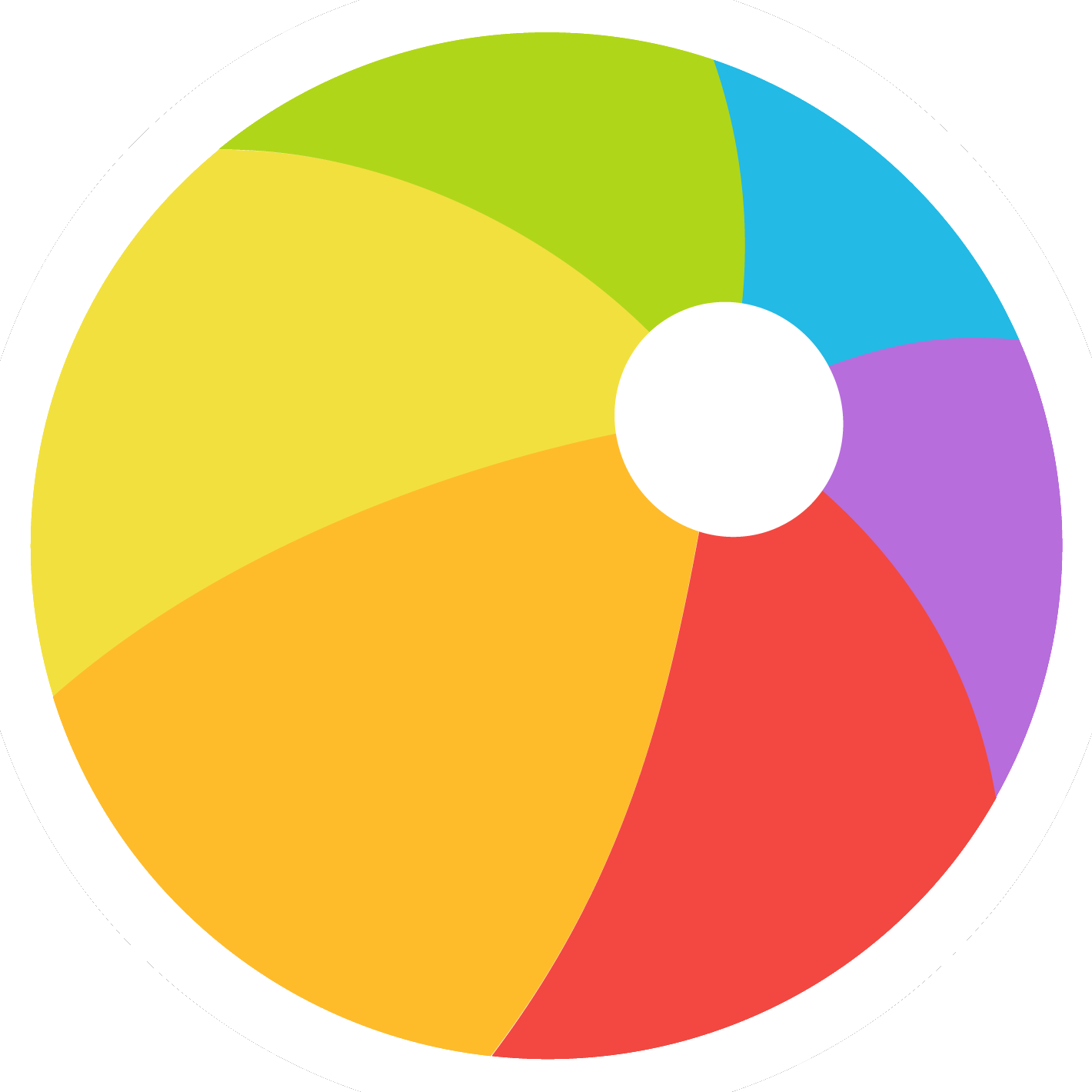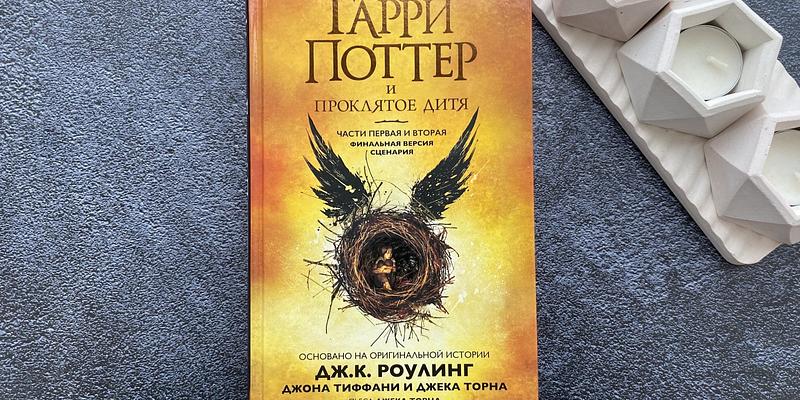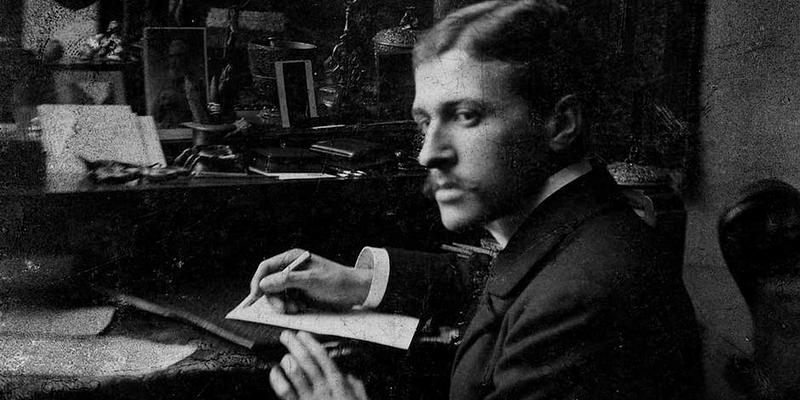Вот что касается фэнтези. Понимаете, какую-то великую роль этого жанра, не столь мною любимого, я осознал в середине 90-х, когда наш собеседниковский Руслан Козлов дал почитать свой роман «Остров Буян». Я от кого угодно мог ожидать такой роман, но Козлов – известный политический журналист, он редактировал «Смену» ленинградскую, он автор первой публикации о «Митьках», он и открыл их как течение. Он был автором первого ответа Нине Андреевой на «Не могу поступиться принципами». Когда все замерли, думая, что это произошел поворот в правительстве, а вот Козлов взял и написал очень резкую и язвительную статью «Не могу молчать».
Я знал его как очень сильного публициста. Он замечательно писал, знаете, обычно газетные начальники плохо пишут, они редактируют. Но нам повезло: наши начальники – что Пилипенко, что Козлов – имели опыт журналистский, поэтому они руководили газетами со знанием дела. Сейчас, когда я уже не в «Собеседнике», я могу сказать, что мне с начальниками повезло. И вот, вдруг совершенно неожиданно Козлов написал «Остров Буян» – сказочный роман, роман-сказку, в котором сказочного было очень немного, но этот роман фиксировал попадание в непонятное: тоталитаризм, взявшийся из ниоткуда, тоталитаризм без социальных предпосылок. И единственным, что противостоит этому тоталитаризму, оказалась любовь этих странных персонажей, мальчика и девочки, которые в этом вымышленном мире (очень похожем, кстати говоря, на Россию 90-х) то теряются, то находятся. Роман этот потряс меня какой-то своей невероятной достоверностью, физиологически очень точной и при этом очень сильной любви, описанной невероятно. Но главное, меня поразило это чувство «попадания в непонятное». Есть такое воровское выражение, очень точное, как большинство блатных выражений, когда ты живешь нормальной жизнью, а она на твоих глазах начинает подменяться.
Когда без всяких социальных и политических предпосылок твоя страна начинает перерождаться, и очень скоро ты живешь в подмененной реальности. «Остров Буян» – мало того что роман о природе любви, потому что именно в природе любви обнаруживается главное человеческое качество, а именно солидарность, способность быть «у мачты против тысячи вдвоем. Это был роман о необходимости простейших моральных ценностей, которые обретаются, к сожалению, только через любовь, только через глубокое взаимопонимание. Это был вообще лучший любовный роман, который я читал. Там и война была, и комендантский час, и все дела. То есть автор странным образом чувствовал дрожь земли. Я, кстати говоря, с тех пор к Козлову стал относиться более серьезно. Когда он написал «Stabat Mater» – роман, который получил вторую премию «Большой книги»; роман, который стал событием, я не удивился. Для меня это было продолжением. «Stabat Mater» – действительно очень сильный роман, очень страшный. Роман о болезни, которая поражает детей, о том, как люди реагируют на это, о том больном мире, в котором мы попали, о мире как о болезни.
Я не хочу, чтобы складывалось ощущение, мол, Козлов меня похвалил, а теперь я хвалю Козлова, но просто я ему первому отправил «Дугу», когда она была закончена. Просто он был единственным человеком на тот момент, который мог бы это понять. И слава богу, я не ошибся. Просто для меня он такой писатель, совершенно не мейнстримный, находящийся на обочине, но при этом наделенный какой-то волчьей интуицией. Он чувствует дрожь земли, чувствует то направление, в котором она в ближайшее время повернется.
«Остров Буян» – ей-богу, я любому подростку мог бы эту книгу рекомендовать как лучший путеводитель в тонком и изломанном мире первой любви. То, что ее переиздали сейчас , – это редкая удача. То, что у меня есть такой товарищ, как Руслан, – это просто сильно меняет мое представление о мире в лучшую сторону.
Да и вообще, обратите внимание, фантазия сегодня довольно сильно изменилась. Она перестала быть сказочной, но она и перестала быть фантастикой в собственном смысле. Это жанр городской сказки, как она сложилась в 70-е годы в творчестве Катерли, Житинского, Валерия Попова (в «Темной комнате»). Это реализм с небольшим привкусом гротеска, с небольшим сдвигом в сторону сказки. Сейчас, например, Константин Зарубин написал замечательную книгу – «Повести л-ских писателей». Она не особенно оригинальна, мы это все уже про таинственные книги читали, начиная с Лео Перуца, но сама история про книгу неизвестно каких писателей, вышедшую в 70-е и таинственно меняющую судьбы, Зарубин написал лучше предшественников. Видимо, потому что он лучше умеет писать. Книга отличная. Вообще, жанр фэнтези… я не знаю, почему он стал сдвигаться.
Дело в том, что сказка городская как таковая стала немножко моветонной, стала пространством штампа. Остается проблема – как дозировать фантастическое, чтобы оно не оскорбляло читателя недостоверностью, легкостью вымысла, чтобы оно при этом «подсаливало» реальность, давало ей какой-то вкус, кроме бытовой скуки. Самый сказочный мир, который я помню, – это мир 70-х, увиденный из окна городской окраины. У нас как раз окно на Мосфильмовской выходило на окраину города, на деревни и колхозное поле, и мы видели это огромное зеленое небо, которое обещало все возможности, эти дома-высотки, за которыми, казалось, все обрывается в океан. Вот это городская сказка (то, что Велтистов писал в «Гум-гаме», я недавно об этом рассказывал), – это было частью нашей реальности. И когда с этого начал Пелевин, это было интересно и органично.